|
|
Главная страница хумопостов »
Раздел: Мое творчество
злыдень– Ну, вот и приехали, – облегченно вздохнула Габриэлла. – Софик, идем, поздороваемся с дедушкой Федей и бабушкой Наташей, – проворковала она. Софокл не шевельнулся. – Ну, что же ты? Открывай дверцу, ведь я тебе показывала, как. Внук подергал хромированную ручку указательным пальцем, нижняя губа капризно отклячилась: – Ну, я не знаю как, не открывается. – Сейчас, Софик, сейчас баба откроет, только не плачь, – закудахтала Габриэлла и выскочила из машины. Ярко-голубой брючный костюм облегал ее стройную фигуру, на холеных пальцах блеснули солнечными зайчиками золотые кольца и перстни с бриллиантами. Габриэлла поправила на шее золотую цепь с кулоном и засеменила вокруг капота, не спуская глаз с любимого чада. Внук вышел из машины с очередной, хоть и маленькой, победой. В белых брюках и белой рубашке с черным галстуком-бабочкой, он выглядел ангелочком, только без крылышек. В дверях мастерской появился Артемка, ровесник Софокла, весь как сбитый из тугих мышц, и подвижный, как ртуть. В сандалиях на босу ногу, простых штанах и легкой клетчатой рубашке припорошенной опилками. Опилки и мелкая стружка застряла даже в крупных кудряшках шевелюры цвета спелой пшеницы. И пахло от него, как в хвойном лесу. – Ой, Софка приехал! – радостно закричал Артемка. – Какой он тебе Софка,- строго сказала Габриэлла,- ты еще меня Габриэлькой назови. – Его зовут Софокл, можно – Софик. Но, ни как не Софка. Крайняя невоспитанность. Ведь тебя не называют, скажем, Артемка. Ты для всех – Артем. – Ну, что вы, тетя Габриэлла, – захлебываясь от радости, затараторил Артемка, – меня все зовут Артемкой, и мне нравится. Конечно, когда вырасту, тогда пусть будет Артем, как у взрослых, а сейчас так лучше. – Галя, ну что ты все строишь из себя благородную, можно сказать – интеллигентную, – раздался бас Бориса, отца Артемки. Он вышел из мастерской и добродушно улыбался. Его крупное лицо, и вся рослая, широкоплечая фигура выражали доброжелательность. – Во-первых, я не Галя… –Да брось ты кочевряжиться, – еще шире улыбнулся Борис,- это там, в городу, среди своих ты Габриэлла, а здесь не обессудь: буду называть тебя, как с детства привык, когда соседями были, и как родители нарекли, а не этой собачьей кличкой, что ты придумала. – Ну, почему же – собачьей…? – растерялась Габриэлла. – А потому что родителям обидно, ты вроде как украла у них что-то. А еще лезешь детей поучать, как им называть друг друга. У них свой мир, свои отношения и понятия. Габриэлла, не в силах противиться обаятельной улыбке, не обиделась сейчас, отложила на потом. Только фыркнула, как норовистая кобыла и вошла в мастерскую вслед за детьми. В точеные ноздри пахнуло свежей древесиной, лаком и олифой. Дети стояли у верстака и Артемка показывал Софоклу скамеечку изготовленную для бабушки. Скамеечка отполирована до зеркального блеска и покрыта бесцветным лаком. Все жилки дерева выглядят живыми и даже, казалось, шевелятся под лучами солнца из большого окна, когда Артемка поворачивал скамеечку. Софокл держал в ладонях большую черную рулетку, вытаскивал из нее упругую желтую ленту и отпускал. А когда лента смачно, с треском ныряла обратно, восторженно взвизгивал. Вот снова вытащил на полметра, застопорил кнопкой и стал завязывать узлом. – Э-э-э! – раздалось тревожное, – вот этого делать нельзя. Никогда. Инструмент это святое, такое святое, что святее и быть не может. Кроме бабушки. Борис шагнул к Софоклу и протянул руку: – Дай сюда, а то ты быстро ее приведешь к общему знаменателю. Софокл положил рулетку в подставленную широкую ладонь. Борис расправил ленту, критически оглядел ее, и спрятал рулетку в карман. – Софик, идем отсюда, здесь нас не любят,- зло буркнула Габриэлла и вывела внука за руку из мастерской. – Чего это она?- Борис недоуменно повернулся к сыну, будто тот знал ответ. Он только пожал плечами: – Да кто их поймет, этих женщин. – Иди в дом, философ,- засмеялся Борис и потрепал сына по кудрявой шевелюре. – Иди, я скоро. Габриэлла с внуком вошли в дом. Ее холеное лицо покраснело и сморщилось, как печеное яблоко, на глазах навернулись слезы и готовы были прорвать запруду, хлынуть ниагарским водопадом. Губы мелко тряслись, пытаясь что-то сказать. – И что случилось, Галенька?- всполошилась родители и младшая дочь Татьяна, жена Бориса. Габриэлла с трудом вздохнула, преодолевая спазм в горле, и выдохнула: – Этот ваш зять, этот злыдень, он… он…, – и две струи брызнули из глаз, а тушь с ресниц потекла по щекам оставляя мутные полоски, – он злыдень! злыдень! злыдень! Она села у стола и заревела в голос, сотрясаясь полноватым телом. Если бы она приняла боевую стойку и закатила истерику, то неизвестно, чем бы все кончилось, а так она выбрала самое убойное женское оружие: слезы. Федор Никонович подозрительно посмотрел на зареванную дочь и предложил: – Выпей успокоительного и расскажи толком, что стряслось? Кто обидел, – и налил из графина в граненый стакан нечто прозрачное с легким запахом банана и алкоголя. – Дык чо, паря-дева, случилось? – Он вырвал, из рук вырвал!- простонала «паря-дева», – как будто Софик не знаю, что такого сделал. За что он так его ненавидит?! – Вот так взял и вырвал? – ухмыльнулся Федор Никонович. Он знал свою дочь, и знал зятя, и потому был уверен, что это очередная бабья блажь, а зять, в очередной раз – жертва. – Но руки, я думаю, не оторвал? Женщины тоже знали Габриэллу, и не раз перемывали ей косточки, где самым лестным было – «без царя в голове». Сейчас, из чисто женской солидарности приняли ее сторону, не вникая в суть. – Ну, пусть только этот злыдень появится, – угрожающе сказала Татьяна и уперла кулачки в крутые бедра. – Мне зять любим, но правнук мне дороже, – не добрым голосом процедила теща, и уперлась взглядом в скалку на столе. – Софокл обнял колени Габриэллы и поднял ангельское личико с голубыми глазами: – Не плачь, а то и я буду, – прошептал он. Женщины, глядя на такую любовь, умилились, а Габриэлла проворковала: – Не буду, мой хороший, не буду, мой маленький. Баба не даст тебя в обиду. Сейчас успокоюсь и не буду. Она взяла стакан холеными пальцами, оттопырила мизинец, и залпом выпила. Самогон, особо секретной перегонки и очистки, огненным ручьем скользнул по луженому пищеводу, который одинаково принимал как изысканные вина, так и прочее, что горит и бьет в голову, как конь копытом, и приятно ожег желудок. Габриэлла слегка задохнулась, стакан с легким стуком вернулся на стол, а ладонь пошарила по столу в поисках закусить или запить ядреный напиток. Нащупала малосольный огурчик, метнула в рот и смачно захрустела, затем осведомилась: –Градусов шестьдесят? – Пятьдесят шесть, как одна копейка, – невозмутимо ответил отец. – В самый раз. – А вот Менделеев доказал, что водка должна быть сорок. Он ее изобрел даже раньше свой таблицы, – проявила эрудицию Габриэлла. Лицо ее разгладилось, порозовело, глаза заблестели, а слезы высохли. Только две темные полоски на щеках напоминали о не давней драме. Казалось, что инцидент исчерпан и отец, чтобы закрепить положение спросил неопределенно: – А как у тебя дела вообще? Что там, к примеру, в твоем акционерном обществе? – В обществе? Да что там может быть?- задумчиво ответила Габриэлла, и продолжила уже с напором: – Сволочи там! Вчера было собрание акционеров, ох и насмотрелась я на эти жадные, злобные хари. За копейку мать родную удавят! Так орали – хоть святых выноси. Да, я купила «Субару», но это для престижа фирмы. Ну, не могу же я ездить, скажем, на «Оке», как мой дворник, а ходить в ситцевом платье, как простая уборщица. Как на меня люди посмотрят? Ни кто фирму уважать не будет, а значит и доходы рухнут. А эти не понимают и орут, будто у них корову украли. Представляешь: человек сто было, и каждый кричит, как ишак, аж штукатурка сыплется. Я кое-как переорала их, думала – голос сорву. Ну, слава Богу, обошлось… Отец только хмыкнул, а женщины довольно заулыбались: «Знай наших»!!! … а то ведь изо рта готовы кусок вырвать, ну точно как ваш Боренька. Ведь вырвал же, из рук вырвал, злыдень, – и снова зарыдала. – Вы не правду говорите, тетя Габриэлла, – сказал от порога Артемка. Он стоял набычившись и смотрел на тетку с обидой. – Что!? – задохнулась от возмущения тетка. – По-твоему – я вру? Вот она нынешняя молодежь и ваше воспитание: оскорбляют, как хотят. Твой любимый папенька, – сказала Габриэлла с сарказмом, – на моих глазах вырвал у ребенка рулетку из рук. – Вы говорите не правду, – упрямо повторил Артемка. – Выходит – я врушка! Так по твоему?! Нет, вы только посмотрите на него, – забушевала Габриэлла. – Софка хотел сломать рулетку, а папа не позволил и Софка сам отдал ее, – уперся Артемка. – Так получается, что твое любимое чадо хотело сломать инструмент, а Борис не разрешил? – спросил отец. – Надо с пеленок приучать беречь вещи, а инструмент – тем более,- добавил он поучительно. – Ну, что значит – сломать, – вскинулась Габриэлла. – Просто ребенок очень любознательный, ему интересно, как устроены всякие вещи, и я ему позволяю изучать все. Абсолютно все. – Тогда дай ему молоток и пусть он у тебя дома занимается наукой: нехай бьет тарелки, чтобы знать со скольки ударов их в пыль, на сколько кусков разлетится зеркало после одного удара, на сколько – с двух или трех. А там и телевизор изучит. Да мало ли чего еще в доме есть. Мальчонка ведь любознательный? – Если ты увидишь, что Софик делает что-то не так, ты скажи мне, а я ему. А сам не смей. Это мой внук, – отрезала Габриэлла и нервно забарабанила пальцами по столу. – Ах, вот, значит, как ты заговорила. Ну, гляди, не промахнись, Асунта. А своему внуку передай, что если он вздумает тут шкодить, получит нахлобучку без предупреждения, – отец улыбнулся так, что дочь вздрогнула, а Софик спрятался за ее спиной и постарался не дышать. – За что ты так ненавидишь его, – с дрожью в голосе спросила Габриэлла. Ее лицо снова сморщилось, нижняя губа отклячилась и задрожала в паркинсоне, а в глазах отразилась вселенская обида всех бабушек мира за своих внуков. Слезы брызнули ниагарой и залили холеные ладони. Габриэлла уронила на них голову и затряслась в истерике с подвыванием и всхлипыванием. Женщины бросились успокаивать: говорили что-то бестолковое, обещали устроить «этому Злыдню» «Варфоломеевскую ночь», натруженные ладони гладили округлые плечи и пышную прическу сестры и дочери, а глаза наполнились слезами. Вошел Борис и недоуменно развел руками: – Что-то стряслось, – растерянно спросил он. – И он еще спрашивает! Харя бесстыжая! Довел человека чуть не до инфаркта, и теперь – «что стряслось»?! – раздалось в ответ гневное. Нет существа страшнее, чем женщина в гневе: в благородной ярости – а как иначе? – она сметет все на своем пути. Страшнее могут быть только две разъяренные женщины. Три – это уже танковая дивизия в яростном бою. За минуту Борис узнал, чем набита его голова, откуда у него растут руки, кому и как он испортил жизнь, кто отдал ему свою молодость, кто его кормил и обстирывал, и чем он отблагодарил. Еще минут через пять Борис убедился, что нет на свете более никчемного и жестокого человечишки, чем он. Ему стало искренне жаль этих, в общем-то, по-своему хороших, добрых женщин, которых жизнь вынудила жить с ним, законченным мерзавцем. Ему бы помалкивать и в ответ только кивать со скорбным видом, а он – святая наивность! – попытался оправдаться. – Так ты ни чего и не понял, – громыхнуло в ответ, и в ход пошла артиллерия. Борису показалось, что попал под минометный обстрел, как тогда, в Чечне. Там он лежал у подножия горы, а вокруг рвались мины. Он яростно долбил каменистую почву саперной лопатой, вгрызался в спасительную землю, отбрасывал землю и камни, насыпая вокруг спасительный вал. Сквозь грохот слышалась яростная солдатская брань и стоны раненых, визг горячих осколков и злобный визг боевиков пополам со злобным хохотом. Лопата не выдержала и сломалась. Борис вжался в окопчик, могучее тело распласталось тоньше блина, он закрыл голову руками готовый к смерти…. Сейчас супостат метал в него кухонную посуду…. – Прекратить, – раздался командирский рев, и кулачище деда с грохотом прогнул толстую столешницу, едва не проломив. Стол оскорблено подпрыгнул на всех четырех, и в отместку сбросил на пол пакет с мукой, последнее, что оставалось на столе. За мгновение до этого Борис отбил левой рукой чугунную сковороду. Она, с треском и звоном сокрушила оконную раму, и упорхнула в огород серой вороной, что-то пролопотав на прощание. Правой он поймал за горлышко полупустой графин с настойкой и юркнул в дверь. В нее тут же ударила, как бронебойный снаряд, дубовая скалка, отскочила и врезалась в люстру со стеклянными висюльками, где и осталась, только весело звякнуло. – Вернись, я не все сказала! – донеслось вслед. С пола скорбно взирали осколки тарелок, чашек и прочих метательных снарядов, щедро посыпанных мукой. Федор Никонович нашел Бориса в беседке. На немой вопрос вкратце рассказал, из-за чего весь сыр-бор. Борис покрутил в ладонях пустой стакан, перевернул вверх дном и одел на опустевший графин. – Ноги моей в ее доме не будет, – глухо сказал Борис. – Она, да и не только она, долго этого добивалась. Все, хватит. Повод нашла: не дал сломать вещь. Это же какую тупость надо иметь, чтобы приучать ломать, а не строить. А тем более разрешать все. – Она как-то похвасталась, что воспитывает Софика на западный манер, – перебил тесть. – Там можно все! Иначе – ущемление прав человека. Демократия, будь она неладна. А сексологию изучают с начальных классов. Какой-то немец запретил сыну ходить на эти уроки, так пришла полиция, арестовала отца и – в кутузку на три месяца. Во как! А потом объяснили-пригрозили: на другие уроки можно не ходить, а сексологию пропускать не моги, иначе еще хуже будет. – Ну, наверное, это хорошо, даже – очень хорошо, – задумчиво сказа Борис. – Ты или съел не то, или выпил лишнего, – ухмыльнулся Федор Никонович. – Да чего там пить было? Два стакана, и то второй не полный. – Ну, если не полный, тогда конечно. – А на Западе…. в той же Германии…. Вот сейчас тем школьникам, скажем, лет восемь-десять. Им вбивают в головы вседозволенность и секс, прикрывая это свободой личности. Лет через пять-семь школьники изнасилуют всех школьниц, без зазрения совести, так как будут уверены в своей правоте. И дочерей этих полицейских тоже изнасилуют, и абсолютно безнаказанно, потому что это культивируется государством и поддерживается силовыми структурами. Вероятно, в правительстве там сексуальные маньяки и недобитые фашисты. И я не удивлюсь, когда учителя обоего пола будут изнасилованы во время урока под видом практических занятий, под лозунгом демократии по-европейски, а значит – вседозволенности. – Не слишком круто берешь? – Нет, это цветочки. Еще через три-пять лет, эти парни пойдут служить в армию и полицию, получат в руки оружие, а бешеные тараканы в голове уже готовы. Но ведь и у гражданских парней будет оружие – там с этим проще, чем в России – а следом молодые волчата подрастут. И начнется резня. Половину Европы кровью зальют, купаться в ней будут. Те, кто сейчас культивирует вседозволенность, попытаются остановить, да только не получится: у них в охране будут те, кого они своей политикой сделали отморозками. – Ну, это ты лишнего загнул, – возразил Федор Никонович. – А может и в самый раз, или даже не догнул, – добавил уже задумчиво. – Только что в этом хорошего? Ведь ты сам сказал, что будет хорошо. – Конечно, хорошо, – подтвердил Борис. – После такого кровопускания ни одно правительство не будет культивировать вседозволенность в своем государстве. Понадобилась Вторая мировая война, чтобы фашизм стал вне закона. – Сказочник ты зятек, хотя… – Сейчас Софка говорит Галке «дай»!, а вырастет, скажет «попробуй не дай, карга старая»! И возьмет сам, что хочет и сколько захочет. Только ей, дурынде, это бесполезно объяснять. Ей наглядное пособие надо, а где его взять? В беседку вошел Софик и вежливо взял дедушку за рукав рубашки: – Дедушка Федя, дайте мне, пожалуйста, мел, я хочу бабушку нарисовать. – Рисовать – это, конечно, хорошо. Это не инструмент ломать. Рисовать, значит – созидать. Молодец, Софокл, – наставительно ответил дедушка. – Я только хотел посмотреть, что будет, если завязать, – насупился Софик. – Ладно, забыли. А мел…. вон видишь за вашей машиной чуть в стороне школьная доска…? Софик кивнул. …ее мне вчера на ремонт принесли: раму укрепить, подшпаклевать, покрасить. Там и мел есть всех цветов: и помягше есть, и потверже. Бери и рисуй вволю. Да, еще вот что: там в доме что делается и где Артемка? – Там прибираются. Артемка на меня обиделся и не разговаривает, – набычился Софик. – А почему обиделся? Не знаешь? Софик в ответ мотнул головой. – Ну, ладно, иди рисуй, Репин. Потом помиритесь. Софик ушел, а Федор Никонович повернулся Борису: – Тут без стакана не разберешься. Тебе сколько? – широкая ладонь взяла стакан и завела его под стол. – Сто пятьдесят, – улыбнулся Борис. Под столом щелкнуло, побулькало и снова щелкнуло. – Вот, ровно сто пятьдесят, как в аптеке, – сказал Федор Никонович и поставил стакан на стол. – Ну, ты, батя, фокусник. Нам, вроде как, выпить не возбраняется, да и редко мы. Проще на столе держать. К чему это? – засмеялся Борис. – Ну, у тебя и вопросы, паря. Ты думаешь, что я знаю – к чему? – удивился Федор Никонович и набулькал второй стакан. Они выпили и захрустели малосольными огурчиками. Оттуда, куда ушел Софик, донесся скрежет. Борис повернул голову, и челюсть его повисла, изо рта вывалился недожеванный огурец. Борис судорожно вздохнул и выдохнул: – Ты глянь, чего делает. Федор Никонович глянул, как Софик самозабвенно рисует и спокойно отвернулся: – А чего делает? Рисует, наглядное пособие делает, – ответил дед и зевнул. – Галка хоть и стерва, а сказать надо. – Надо, как не надо, – согласился Федор Никонович. – Вот придет, тогда и скажем, а сейчас кому говорить? Она так и наказала сегодня, мол, если что увидите не так, сразу ей сказать. А что не так? Нормальный детский рисунок. Платье голубое колоколом, прическа в кудряшках, только вот ноги-руки тонковаты, так ведь дитя еще. Ничего, научится. А запрети рисовать, так снова девки хай поднимут, мол, губишь молодой талант, притесняешь ребенка, ущемляешь права… – Так ведь он гвоздиком ресницы по краске…. – Ну, и что? Ресницы и должны быть тонкими, а все одно завтра-послезавтра шпаклевать и красить. – Может, исчезнем от греха подальше? – Чего вдруг? Ему, может быть, наждачка понадобится: тени навести или еще чего, ведь хорошо рисует, жизненно. Видишь, как зрачки ровно процарапал, и прожилки на глазных яблоках. И лицом все таки похожа. Явно похожа. Талант! – Чует мое сердце – мы накануне грандиозного шухера, – заерзал Борис. – Давай по сто пятьдесят, и смоемся. – Лучше по двести, и пойдем на речку. Жарко сегодня что-то. И сдается мне – гроза будет. – Да уж…. С таким-то наглядным пособием, будет…. Софик закончил рисунок и подошел к взрослым: – Вам нравится, как я нарисовал, – застенчиво спросил он и зарделся. – Здорово, просто здорово, не ожидал, – похвалил дед. – Только почему ты нарисовал бабушку не на классной доске, а на дверце вашей машины? – Это чтобы когда мы будем ехать, все видели, что это я нарисовал и что это бабушка. Правда, похожа, – лицо Софика светилось счастьем, глаза радостно блестели. – Очень похожа. Беги, обрадуй бабушку, а мы пока сходим на речку. Они прошли через огород и вышли в степь, когда далеко позади раздалось истошное: – Ах ты, злыдень…! – Ты не знаешь, чего это она орет? – Наверно рисунок не понравился. |
|




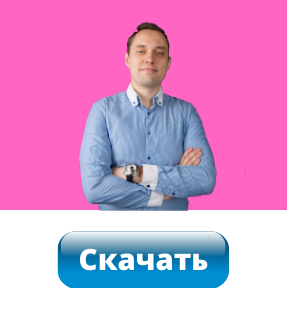
Наверно рассказ получился длинный и скучный, без какой либо идеи?
Николай, идея просматривается. Но - да, длинновато и концовку бы поэффектнее. Спасибо за рассказ и удачи в дальнейшем творчестве!
Спасибо, что прочли. Насчет концовки... мне кажется - в самый раз. Габриэла наказала сама себя.
Здорово!!! Грамотно, искусно. И не длинно, по тому как ни чего не убрать, всё в тему. Просто не всегда на хумореале хочется читать длинные рассказы.((( Вчера, кстати посмотрели с женой фильм "Короче", прикольный))))
Спасибо за столь лестный отзыв. Конечно, Хумориал для вещей очень коротких, но если прочли такой длинный рассказ (для Хумориала), значит написано неплохо.
Мне понравилось)) просто публика привыкла к миниатюрам, шуткам, и ленится прочесть иногда...Но почему бы и не выставлять вещи подлиннее?
Да, Хумориал для миниатюр, анекдотов, шуток. Рассказы несколько выбиваются из основного потока. Но и они нужны. если написаны ярко, с юмором. Насчет "ленится прочесть" - не уверен. Если написано захватывающе, человек будет читать любой объем. Все зависит от таланта автора. Судя по количеству отзывов "Злыдень" получился не очень. Мне винить некого, кроме себя.
Здорово написано. Спасибо.
Спасибо за коммент.